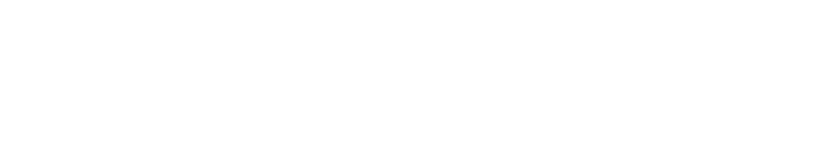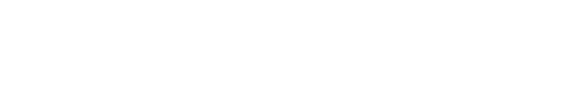Начнем с простой констатации: греческая философия есть не что иное, как одно из ответвлений Великого язычества.
Здесь нет практически ни одной содержательной темы, аналогии которые не встретились бы нам в других традиционных регионах, хотя у греков им дается специфическая и прежде всего – рациональная разработка. Существует огромное количество параллелей и заимствований между Грецией и Вавилоном, Грецией и Египтом или даже Грецией и Индией. Манифестанционалистское язычество – это язык символов, который поддается легкому переводу с одного «диалекта» на другой, если переводчику известен «ключ». Фалес учился в Египте, Пифагор – в Египте и Вавилоне. Про Демокрита сообщается, что он бывал даже в Индии. У египетских жрецов обучался Платон.
Надо обратить внимание, что традиционное хронологическое размещение материала по античной философии – от досократиков через Платона и Аристотеля к неоплатоникам – полностью искажает сущность этого мышления. Это форма изложения научных знаний Нового времени, где предполагается прогресс и развитие, аккумуляция достижений, – но она неприменима к античной мысли, которая, по существу, не знала никакого развития: как и вечный космос, она скорее вращается на месте, вокруг определенных архетипов и сюжетов, чем движется вперед. Платон говорит то же самое, что и Анаксагор, Прокл – то же, что Платон. Каждый очередной мастер вводит новые категории, несколько переставляет акценты, но ничего не меняет в содержании. Аристотель был бы удивлен, если бы ему сообщили, что он изобретает что-то новое по отношению к Платону.
Отсюда легкая конвертируемость античных систем мысли друг в друга. Можно рассуждать о Платоне в перипатетических терминах и об Аристотеле – на лексиконе стоиков. По существу, античная мысль является одной философией на одну и ту же тему. Варьируется внешняя символика, тогда как внутреннее содержание остается неизменным, как река в смене своих вод. Если уж браться за написание компедиумов, то лучше всего располагать материал по рубрикам, а не по хронологии*.
Главным объектом античной философии, как и Великого язычества вообще, является Космос – с его Центром, «верхом» и «низом», роком как всеобщим законом – вечный космос, возникающий из огня и возвращающийся в огонь. Этот космос имеет ряд уровней, большей или меньшей степени субтильности, которые населены несколько иными существами, чем мы: в Коране они названы джиннами, у греков - богами. Когда мы говорим, например, о «Дионисе» или «Афродите», то мы должны учесть, что эти существа реально существуют, но, так сказать, на более «тонких» уровнях Большого космоса. Человек, развивший в себе созерцательные способности, может видеть этих существ, наблюдать их трансформации, общаться с ними и т. д. Античный человек предпочел превратить их в своих богов. В Коране об этом говорится:
«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх» (72: 6);
«Он создал человека из сухой глины, подобной гончарной, и создал джиннов из чистого пламени» (55: 14-15).
«Глина» и «огонь» обозначают различные разновидности онтологического, креативного материала, большей или меньшей степени субтильности. Существуя в своих «небесных» мирах, данные существа более высокого энергийно-онтологического плана – впрочем, тоже являющиеся смертными - наслаждаются блаженным бытием. Как говорит об этом Гомер:
Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.
Так во весь день до зашествия солнца блаженные боги
Все пировали, сердца услаждая на пиршестве общем…
(Ил., I, 599 - 603).
Но небожители – лишь часть космоса. Над ними существуют axis mundi (Ось мира) и рок. В целом же бытие античного космоса так же патетически бессмысленно, как игра морских волн. Лишь где-то в центре этого безмерного океана существует некая мощная турбулентность, к которой все стягивается и как бы замыкается здесь в одной точке. Эта «точка» носит разные названия – Первопринцип, Логос, Огонь, Солнце, Благо, «идея идей», «форма форм», Ум, Перводвигатель, Единое, Пневма. Все эти наименования указывают на одно и то же – imago mundi (образ мира) манифестанционалистского континуума.
Этот вечный спектакль, эта жизнь как игра под небесной твердью и всемогущим роком – под ее знаком проходило все античное бытие, бессмысленное и несерьезное в каком-то высшем и труднопостижимом для нас смысле. Отсюда роль драмы. Рок играет человеком, а человек играет в то, как рок играет им.
Грек действительно не верил в смысл жизни. Какое значение имеет человек в мире, который управляется игрой фатума и некогда исчезнет в космическом пожаре вместе со всеми своими обитателями? – В том мире, где человек является только случайностью, песчинкой в космической груде или волной на поверхности вселенского океана. В этом мире ни к чему Sturm und Drang духа: жизнь надо претерпеть или – что то же самое – проиграть. «Жить должно играя» - говорит Платон. Воля, преодоление, борьба – все это чуждо как греку, так и римлянину. Шпенглер хорошо понимал это, но он не видел настоящих причин такой резиньяции. Этос Суллы был очень типичен. Светловолосый и голубоглазый красавец, этот диктатор Рима и государственный террорист «искал в жизни только веселья и наслаждений… Жаждать и стремиться к чему-либо, вероятно, казалось ему неразумным в мире, который управляется случайностью и в котором можно рассчитывать только на случайность. Он шел за своим временем, сочетая неверие с суеверием. Но его странное легковерие – не простецкая вера Мария, который покупал у жрецов предсказания и действовал согласно этим предсказаниям. Легковерие Суллы еще меньше похоже на мрачную веру фанатиков в предопределение. Вера Суллы – это вера в абсурд… Это – суеверие счастливого игрока, который считает, что судьба дала ему привилегию везде и всегда выигрывать».
За внешней праздничностью и радостным пафосом этот мир статуй с пустыми глазницами скрывал глубочайший ужас перед властью фатума. Быть может, грек превратил свою жизнь в непрерывную череду торжеств именно для того, чтобы бежать от этого кошмара, от язвы рока, разъедающей мир? Да, его пессимизм был вызван «ужасающей силой Негатива» (Гегель), которая некогда сотрет людей, героев и богов. Когда Сократ у Платона говорит, что человеческая жизнь является трагедией и комедией одновременно, то этим глубочайшим словом он на несколько мгновений приоткрывает перед нами глухую завесу античного бытия.
Только монотеизм освободит личность из-под власти космической необходимости и тем самым наделит ее некой высшей миссией и собственной историей. Идея фатума играла значительную роль в верованиях доисламских арабов: их поэзия постоянно возвращается к мотиву ничтожности человека перед хаотическими силами судьбы. Как и у греков, у арабов имелись фигуры героев, бросающих вызов року и вместе с тем выполняющих его предназначение. Понятие «рока» могло выражаться группой слов от глагола «манна» - мана или манун. Отсюда и женская богиня судьбы Манат, которая отвергается в Коране:
«Но видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу,
и Манат - третью, иную?
Неужели y вас - мужчины, a y Него - женщины?
Тогда это - разделение несправедливое!» (53: 19-22).
Другое слово для обозначения рока – дахр (оно означает также «время»). Отрицая воскрешение, арабы говорили:
«Мы рождаемся и умираем, и убивает нас только дахр» (45: 24).
Таким образом, Откровение говорит нам о том, что многобожие непосредственно пыталось противопоставить силы рока власти пророческого монотеизма. Напротив, монотеизм заменяет вечное вращение космической тотальности абсолютной Волей трансцендентного Субъекта, а действие рока – божественным предопределением. На языке Корана предопределение выражается такими словами, как «кадар» или «кадр», передающими также представление о мощи и могуществе. В отличие от слепого действия рока, предопределение является вертикальным вторжением Творца в пространство истории. Рок постигает, предопределение исполняется. Слово кадр используется в суре «Ночь могущества»:
«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь могущества.
Откуда тебе знать, что есть ночь могущества?
Ночь могущества лучше тысячи месяцев.
Нисходят в нее ангелы и дух с дозволения их Господа для исполнения всяких повелений.
Она - мир до утреннего времени».
Здесь лейлят уль-кадр можно переводить как «ночь могущества» и как «ночь предопределения». Лейлят уль-кадр – это священная ночь ниспослания Корана. Удерживая рядом данные аспекты, монотеистическое предопределение проявляет себя как вторжение божественной Мощи в человеческий мир.
Однако здесь присутствует еще один важный семантический момент. Слово «кадр» также связано со значением «меры», «ограничения», «справедливости». Это свидетельствует о том, что предопределение, в отличие от слепого рока, реализует некую высшую правду, определенный провиденциальный замысел о человеке и истории. Картина мира Откровения является монархической, поскольку помещает в центр Творца как абсолютного Владыку, Царя, Вождя, являющегося «Иным» по отношению ко всему тварному. Вторжение Иного означает кризис мира, раскол вечного космоса. Вспомним, что греческое слово «кризис» означает «суд» и «разделение». Бог Откровения есть небытие мира, а не его центр или эссенция. Иное, Небытие мира выступает как источник его перманентного кризиса, транслируемого через механизм предопределения на человека и историю.
О том, что античные люди жили в совершенно ином культурном мире, свидетельствует хотя бы отсутствие в их языке слов, без которых мы не могли бы выражать наше понимание вещей: личность, сознание, время, смерть.
Там, где мы упоминаем о «личности», грек говорил о «теле». Эдип жалуется на душевные страдания своего «тела». Боги – тоже прежде всего «тела».
Античные тексты никогда не имеют в виду личность как некий самосознающий центр: в них речь идет о личине, которую следует отбросить на пути к космическому абсолюту. Под «душой» (псюхе) грек понимал совокупность оболочек, более или менее грубых либо субтильных. Существует, например, вегетативная и небесно-интеллектуальная душа. Смерть представляет собой простую трансформацию таких душевно-телесных личин, так что вегетативная душа, например, перерождается в какое-нибудь животное, интеллектуальная – идет на «небо», в более тонкие слои космоса, а тело остается здесь как некая сброшенная пустая оболочка. Таким образом, речь идет не столько о смерти, сколько о совокупности метаморфоз.
Время у греков могло, с одной стороны, отождествляться с роком и почитаться как высшее божество (как в Индии всесжигающий Кала), с другой – наделяться круговым характером. «Ибо и само время, - пишет Аристотель, - кажется каким-то кругом» (Физика, IV, 10b 24-29). Это циклическое время самого космоса, сквозь которое просвечивает неподвижность вечности. В слове aion, эон, заключалось значение свернутого и развернутого времени в циклическом смысле. «Эоном» называли как ограниченный период, так и вечность. Он означал также неувядающую молодость, и его сравнивали с конем, бегущим по ристалищу. Согласно Платону, к эону неприменимы определения «был» или «будет» - он всегда только «есть». По Аристотелю, эон есть, с одной стороны, «предел, охватывающий время каждой отдельной жизни», а с другой – «предел всего неба и предел, охватывающий все время и бесконечность» (О небе, I 9, 279 а 22-30). Прокл называет его «отцом времени».
Если у таких мыслителей Нового времени, как Кант или Хайдеггер, время сконцентрировано в человеческом субъекте как его внутренняя порождающая способность, то в античной картине мира, наоборот, субъект поглощен объективным временем космоса. Поэтому «вместо того чтобы сосредоточить время в личности, Плотин хочет…рассеять личность во времени». Время у Плотина порождается небесной сферой, когда вечность, являясь бесконечно длящимся мигом, проецируется на плоскость чувственного мира, продуцируя временной поток. О том же говорит Ямвлих: космический демиург распутывает «умное» время как вечное «теперь» небесных сущностей, и из этих нитей сплетает поток эмпирической темпоральности.
Та концепция времени, которую предлагает Хайдеггер в «Sein und Zeit», где темпоральность направляется будущим и продуцируется из субъекта (Dasein), соответствует монотеистической картине мира, тогда как критикуемая им точка зрения Аристотеля («теперь-время») – картине мира манифестанционализма. У Аристотеля идет речь не об «обыденном толковании времени», а о самопонимании целого культурного мира. Чтобы вполне разобраться в аристотелевском учении о времени, следует держать перед своим внутренним взором картину античного космоса – совершенную и внутренне неизменную сферу, где имеет значение только константное «теперь».
«Теперь» есть концентрированное выражение вечности, которое, как бы ниспадая на космическую периферию – земной мир, - разделяется на бесчисленное множество отдельных «мгновений». Тогда космос оказывается «подобием больших вселенских часов, которые лишь отмеряют идущее само собой время». Этому соответствует культ случая, тюхе, представление о слепом фатуме или греческая драма момента. Шпенглер назвал это «точкообразным эллинским бытием».
Грек существовал в области сиюминутного: он не имел понятия о «большом», историческом времени, выстраиваемом из будущего. Последнее разовьется только в трансформированном монотеизмом мире. Потому жизнь в эллинском мире, как мы уже сказали, должна была казаться вполне бессмысленной. Гомер не случайно сравнивает людей с «листьями в дубравах древесных», которых «ветер по земле развевает». Распространенная греческая мудрость гласила, что самое лучшее для человека – вообще не родиться, а если родился, то как можно скорее умереть.
Отсюда и отсутствие интереса к истории. Аристотель оставил нам описания диковинных животных, но ничего не сказал о своем ученике Александре, а в политической теории проигнорировал крупнейшие изменения в отношениях власти, совершавшиеся на его глазах. Величайший гений древности наблюдает крушение целого исторического мира и рождение на его месте нового, видит во главе этих процессов своего собственного ученика, но не считает необходимым сказать об этом хотя бы несколько слов! Как это понимать? Аристотель, подобно любому традиционному человеку, был ориентирован на созерцание и воспроизводство архетипов. Он не жил в истории, как мы, и не имел представления об историческом времени. Именно по этим причинам в Индии напрочь отсутствовала историографическая традиция. Плотин прямо говорит, что в истории нет никакого смысла. Предназначение человека – не реализация какой-то сверхмиссии в потоке исторического времени, но бегство из него ради созерцательного слияния с Единым, с космосом, со «Всем». Стремиться к чему-то в таком мире или пытаться его исправить кажется Плотину абсурдным.
Главным и, по существу, единственным объектом античной мысли является, как уже было упомянуто, Космос – вечная, неизменная, периодически сгорающая и возрождающаяся «природа» созерцательной Традиции, о которой Гельдерлин скажет:
Она сама, кто старше всех времен,
Превыше всех богов восхода и заката,
Природа пробудилась под звон оружия,
И от эфира до бездн подземных,
По непреложным законам
Зачата святым хаосом,
Обновлена вдохновеньем
Всетворящая снова.
Чтобы понять образ, «схему» мышления греков, надо сразу же уяснить, что в этом мире «все едино» и «все переходит во все». Нет границ, нет преград между мирами. Нам трудно понять эту метаморфичность, поскольку наше восприятие окружающей действительности основано на четкой фиксации позиций. Условно говоря, для нас «верх» - это верх, «низ» - это низ, «Зевс» - это Зевс. Совсем иначе у греков. «Единое» легко может стать у них «бесконечным множеством», Огнем или Зевсом. «Дионис и Аид – одно и то же», говорит Гераклит. Орфическая формула: «И Зевс, и Аид, и Солнце, и Дионис – едины». Когда эллинские сюжеты сообщают нам о приключениях Диониса или Геракла, то здесь имеются в виду события, которые происходят не только «здесь», в этом мире, но и в других, более субтильных мирах. Но поскольку строгой границы между тем и другим для грека нет, то эти существа как бы перетекают из одной плоскости в другую. Потому что существует, например, как об этом скажет любой знакомый с посвятительными доктринами, Индия «земная» и Индия «небесная» (субтильная), и Дионис приходит не из первой, а из второй. Есть текучий, флюидный континуум Большого космоса, и в нем-то и разворачиваются те события, которые мы привыкли называть «мифами», поскольку им нет соответствия в обычном эмпирическом опыте, полученном с помощью эмпирических глаз и ушей. Гераклит отчеканил свое знаменитое panta rei, «все течет», имея в виду эту конститутивную особенность языческого космоса: бесконечный коловорот элементов, качеств и состояний.
Движутся в море глубоком моря, те к зарям, те - к закатам;
Поверху волны стремятся на полдень, ниже на полночь;
Разно-текущих потоков не мало в темной пучине,
И в океане пурпурном подводные катятся реки.
(Вяч. Иванов).
Подобно тому, как в античной картине мира «все становится всем», категории «философий» той эпохи также служат субститутами друг для друга.
А. Лосев метко характеризует стиль трудов Плотина как «неуловимый» или «ползучий»: все понятия у него накладываются одно на другое и плавно перетекают друг в друга. Демокрит называл свои атомы «идеями» и «богами», Платон именовал свои «идеи» «атомами». Стоические «логосы» - это также и «эйдосы» (как и аристотелевские «формы»), а неоплатоническое Единое в то же самое время выступает как Благо, Логос или «идея идей».
Все «школы» античной мысли, по существу, говорят одно и то же и легко «переводятся» на язык друг друга. Современное знание развивается по прямой линии, от «низшего» - к «высшему»; древнюю же мысль скорее можно назвать «вращающейся на месте». Возникает впечатление, что за 1200 лет ее истории ничего нового не было сказано, и Прокл занят совершенно тем же самым, что и Парменид.
Другая распространенная ошибка – принимать символы (а греки говорили прежде всего символами) за то, что они эмпирически обозначают. Еще и сегодня в любом компедиуме можно прочитать, что досократики искали «начало вещей» то в воде, то в воздухе, причем все это пересказывается как анекдот о наивности древних, не знакомых еще с чудесами современной науки.
Но не будем торопиться с вынесением оценок. Возможно, древние были не столь наивны, как это кажется нам ввиду нашей собственной наивности. Дело в том, что космическое сознание – а именно таким было сознание греков – намного превосходит те рамки восприятия реальности, которые эмпирическое знание современного «цивилизованного» человека считает нормальными и достаточными. Грек «видел» гораздо более широкий спектр явлений и феноменов за счет той способности созерцания, которую он развивал в себе с помощью вполне определенных техник.
В перспективе данной оптики «вода» – это универсальный, встречающийся также во многих других культурах символ космогонической субстанции. Ветхозаветное «Дух Божий носился над водою» является, скорее всего, заимствованием из вавилонской космогонии. Вода как женское начало творения требует оплодотворения, например, со стороны молнии (тоже, разумеется, символ). Анаксимен говорит о «воздухе» в таком же смысле. Точнее, у него речь идет не о воздухе, а о тумане, более или менее плотном, из которого сгустился мир (не только «наш», эмпирический мир, но и вся совокупность миров Большого космоса, о которых современная позитивная наука не имеет даже никакого понятия: не забудем, что греки всегда имеют в виду весь космический универсум, а не только ту узкую полоску этого океана, которую мы именуем «эмпирическим миром» и которой занята по преимуществу экспериментальная наука).
Анаксимандр дал этой первоначальной субстанции имя apeiron. Его изречение гласит: «Откуда вещи берут свое происхождение, туда же должны они сойти по необходимости; ибо должны они платить мзду и быть осуждены за свою несправедливость сообразно порядку времени». Это высказывание в свое время вызвало громоздкую попытку толкования со стороны Хайдеггера, которая не столько прояснила, сколько запутала дело. Но в действительности общий смысл сентенции как раз хорошо понятен: здесь имеется в виду космогонический процесс, в результате которого качественно оформленное сущее выделяет себя из первоначального апейрона. Затем, когда цикл подойдет к концу, оно опять погрузится туда «по необходимости». Не совсем ясна только последняя часть изречения, но, во всяком случае, очевидно, что Анаксимандр не говорит здесь что-то необыкновенное и чрезвычайно мудрое – то, что мы не могли бы встретить у других греческих философов. Смысл подобных сентенций можно прояснить лишь в соотнесении с общеантичной картиной мира, чего Хайдеггер не делает, предпочитая вообще иметь дело с досократиками и обрывочными высказываниями, поскольку, как говорит Гегель как раз по этому поводу, «от всей древне-ионийской философии у нас осталось с полдюжины коротеньких отрывков, и изучить их, разумеется, легко. Однако ученые чаще всего показывают свою ученость на древних, ибо, где мы меньше всего знаем, там мы можем быть более всего учеными».
Для прояснения античных представлений о космогоническом процессе приведем один гимн из индийской «Ригведы»:
До появленья Ничто, даже раньше, чем Нечто явилось,
В чем все скрывалось? Иль где почивало? В воде ли?
Смерть и бессмертье друг друга, как ночи и дни, не сменяли.
Только Единый, который себе был источником жизни,
Ровно дышал, и ничто вне его не лежало.
Мрак схоронился как в море во мрак изначальный;
Как пустота, поглощенная хаосом, там возрастал он
Внутренней силой усердной. Родилось сначала
Семя первичное мысли, которая с чем-то
Что существует, не ведает связи, - желанье,
Что мудрецы вечно ищут и вечно находят.
В пропасти темной вдруг луч пламенеющий вспыхнул.
Все это сверху иль снизу творилось? Кто знает?
Мощные силы, творящие, найдены были. И силы
Эти трудились. Внизу простиралась материи масса,
В вечном движеньи, энергия – сверху. Кто скажет,
Весь этот мир безграничный откуда поднялся?
Боги в то время еще не явились на свете, так кто же
Правду откроет? Откуда мир вышел, и был ли
Создан рукою богов или нет?..
Здесь «Единое» тождественно анаксимандровскому апейрону, который, если верить Аристотелю, также является божеством и «всем правит». Сегодняшняя Индия вообще является наиболее близким аналогом погрузившейся в Лету греко-римской античности. В структуре индуистского космоса мы встречаем ту же метаморфичность. Множество аватар и теофаний превращаются друг в друга. «Когда закон повергается и восстает беззаконие, - говорит Кришна (аватара Вишну) Арджуне, - о, потомок Бхараты, тогда я привожу себя к рождению в теле» (ср. это с христианским мифом о «боговоплощении»).
Наибольшим значением обладают десять аватар Вишну, среди которых Кришна, Будда, Рама и Калки. Верховная триада индуистского пантеона – Брахма, Вишну и Шива – состоит из божеств, перетекающих один в другого и манифестирующих три аспекта Верховного Существа. Брахма выполняет роль создателя Космоса, Вишну – его хранителя, а Шива – разрушителя. Индуистские боги проявляют те же пороки, что и гомеровские. Так, Брахма потерял одну из своих пяти голов в результате наказания Шивой за то, что в пьяном виде совершил инцест с собственной дочерью. По другой версии, голова была удалена ногтем Шивы после того, как ей пришло на ум толковать о превосходстве Брахмы. Индусы имеют склонность производить своих выдающихся людей в аватары: как и у греков, граница между божественным и человеческим здесь весьма размыта («богочеловечество» как фундаментальный архетип языческой картины мира).
Исходя из всего сказанного мы могли бы отыскать толкование многих казавшихся «темными» изречений и образов Гераклита. Теперь для нас будет самоочевидным настоящий смысл таких фрагментов, как: «Из всего возникает единое, и из единого – все»; «Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерами возгорающийся, мерами угасающий».
«Огонь» - один из символов для imago mundi, наравне с Логосом. Логос и Огонь – тема не только Гераклита, но и всех досократиков. «Угасание» и «возгорание» огня обозначает смену космических циклов. Поскольку космическое начало заключено в самом человеке («макрокосм» в «микрокосме»), то также и душе «присущ Логос, сам себя умножающий» (B 115) и «по какой бы ты дороге ни шел, не найдешь границ души: так глубока ее основа» (В 45). Человек становится разумным через участие во всеобщем божественном разуме (А 16). Внимающие Логосу (т. е. созерцатели) достигают огнесоразмерного просветления и самообожествления.
Если верить Диогену Лаэрцию, Гераклит сам практиковал созерцательный аскетизм: «Возненавидев людей и уединившись, он жил в горах, питаясь растениями и травами» (А 1). Сюда относится его признание: «Я вопрошал себя» (В 101). «Бытие любит скрываться»: здесь, вероятно, имеется в виду труднодостижимость Первопринципа для созерцающего. Многие образы Гераклита относятся к универсальной символике манифестанционалистской традиции. Например, символ лиры с натянутыми струнами является, безусловно, очень древним и чрезвычайно распространенным. В различных ответвлениях Великого язычества космос символизируется струнами или тканью. Представим себе нити (стоики будут называть их «сперматическими логосами»), которые через соединение с материей порождают различные формы манифестированного бытия*.
Другой излюбленный символ Гераклита – лук и стрела. Стрела здесь символизирует ось миров (мировое древо, космический фаллос), а тетива обозначает то же, что и натянутые струны в предыдущем случае. Следующий образ – молния – олицетворяет действие Первопринципа, его манифестацию. Логос, говорит Гераклит, есть молния и правит по способу молнии. Молния выступает символом брака неба и земли, верха и низа, идеи и материи. Она может также отождествляться с мужским началом, фаллосом, который, ударяя по инертной «воде» («мировому океану»), оплодотворяет ее и тем самым дает начало манифестированному бытию.
Другой известный гераклитовский фрагмент использует универсальный образ игры: «Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки: царство над миром принадлежит ребенку» (В 52). Мировая игра как действие случая; пересечение потоков и отражение бликов бушует на поверхности космической жизни. В Индии другим наименованием «пелены майи» является лила, т. е. мировая игра. Плотин в целом ряде текстов сравнивает жизнь человека и мира с игрой актеров. «Это все равно что на сцене, - пишет он, - когда убитый актер, переменив одеяние, появляется вновь, приняв другой облик… Смерть есть перемена тела, как на сцене – одеяния… Разнообразная жизнь во вселенной все создает и в процессе жизни разнообразит и не перестает создавать миловидные живые игрушки». И тем не менее игра – удел поверхности космического бытии, тогда как в его сердцевине господствует совершенный покой Единого. Как это выразил склонный к пантеизму Гете,
Wenn im Unendlichen dasselbe
Sich wiederholend ewig fliesst,
Das tausendfa"ltige Gewo"lbe
Sich kra"ftig ineinander schliesst;
Stro"mt Lebenslust aus allen Dingen,
Dem kleinsten wie dem gro"ssten Stern,
Und alles Dra"ngen, alles Ringen
Ist ewige Ruh in Gott dem Herrn.
Когда в Бескрайнем, повторяясь,
Течет поток извечных вод
И тысячи опор, смыкаясь,
Дают единый мощный свод,
Тогда, струясь из каждой вещи,
Жизнь полнит светлый кубок свой,
И всё, что рвется, всё, что хлещет,
Есть вечный в Господе покой.
(Пер. К. А. Свасьяна).
Источник: im-werden.livejournal.comНачнем с простой констатации: греческая философия есть не что иное, как одно из ответвлений Великого язычества.
Здесь нет практически ни одной содержательной темы, аналогии которые не встретились бы нам в других традиционных регионах, хотя у греков им дается специфическая и прежде всего – рациональная разработка. Существует огромное количество параллелей и заимствований между Грецией и Вавилоном, Грецией и Египтом или даже Грецией и Индией. Манифестанционалистское язычество – это язык символов, который поддается легкому переводу с одного «диалекта» на другой, если переводчику известен «ключ». Фалес учился в Египте, Пифагор – в Египте и Вавилоне. Про Демокрита сообщается, что он бывал даже в Индии. У египетских жрецов обучался Платон.
Надо обратить внимание, что традиционное хронологическое размещение материала по античной философии – от досократиков через Платона и Аристотеля к неоплатоникам – полностью искажает сущность этого мышления. Это форма изложения научных знаний Нового времени, где предполагается прогресс и развитие, аккумуляция достижений, – но она неприменима к античной мысли, которая, по существу, не знала никакого развития: как и вечный космос, она скорее вращается на месте, вокруг определенных архетипов и сюжетов, чем движется вперед. Платон говорит то же самое, что и Анаксагор, Прокл – то же, что Платон. Каждый очередной мастер вводит новые категории, несколько переставляет акценты, но ничего не меняет в содержании. Аристотель был бы удивлен, если бы ему сообщили, что он изобретает что-то новое по отношению к Платону.
Отсюда легкая конвертируемость античных систем мысли друг в друга. Можно рассуждать о Платоне в перипатетических терминах и об Аристотеле – на лексиконе стоиков. По существу, античная мысль является одной философией на одну и ту же тему. Варьируется внешняя символика, тогда как внутреннее содержание остается неизменным, как река в смене своих вод. Если уж браться за написание компедиумов, то лучше всего располагать материал по рубрикам, а не по хронологии*.
Главным объектом античной философии, как и Великого язычества вообще, является Космос – с его Центром, «верхом» и «низом», роком как всеобщим законом – вечный космос, возникающий из огня и возвращающийся в огонь. Этот космос имеет ряд уровней, большей или меньшей степени субтильности, которые населены несколько иными существами, чем мы: в Коране они названы джиннами, у греков - богами. Когда мы говорим, например, о «Дионисе» или «Афродите», то мы должны учесть, что эти существа реально существуют, но, так сказать, на более «тонких» уровнях Большого космоса. Человек, развивший в себе созерцательные способности, может видеть этих существ, наблюдать их трансформации, общаться с ними и т. д. Античный человек предпочел превратить их в своих богов. В Коране об этом говорится:
«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх» (72: 6);
«Он создал человека из сухой глины, подобной гончарной, и создал джиннов из чистого пламени» (55: 14-15).
«Глина» и «огонь» обозначают различные разновидности онтологического, креативного материала, большей или меньшей степени субтильности. Существуя в своих «небесных» мирах, данные существа более высокого энергийно-онтологического плана – впрочем, тоже являющиеся смертными - наслаждаются блаженным бытием. Как говорит об этом Гомер:
Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.
Так во весь день до зашествия солнца блаженные боги
Все пировали, сердца услаждая на пиршестве общем…
(Ил., I, 599 - 603).
Но небожители – лишь часть космоса. Над ними существуют axis mundi (Ось мира) и рок. В целом же бытие античного космоса так же патетически бессмысленно, как игра морских волн. Лишь где-то в центре этого безмерного океана существует некая мощная турбулентность, к которой все стягивается и как бы замыкается здесь в одной точке. Эта «точка» носит разные названия – Первопринцип, Логос, Огонь, Солнце, Благо, «идея идей», «форма форм», Ум, Перводвигатель, Единое, Пневма. Все эти наименования указывают на одно и то же – imago mundi (образ мира) манифестанционалистского континуума.
Этот вечный спектакль, эта жизнь как игра под небесной твердью и всемогущим роком – под ее знаком проходило все античное бытие, бессмысленное и несерьезное в каком-то высшем и труднопостижимом для нас смысле. Отсюда роль драмы. Рок играет человеком, а человек играет в то, как рок играет им.
Грек действительно не верил в смысл жизни. Какое значение имеет человек в мире, который управляется игрой фатума и некогда исчезнет в космическом пожаре вместе со всеми своими обитателями? – В том мире, где человек является только случайностью, песчинкой в космической груде или волной на поверхности вселенского океана. В этом мире ни к чему Sturm und Drang духа: жизнь надо претерпеть или – что то же самое – проиграть. «Жить должно играя» - говорит Платон. Воля, преодоление, борьба – все это чуждо как греку, так и римлянину. Шпенглер хорошо понимал это, но он не видел настоящих причин такой резиньяции. Этос Суллы был очень типичен. Светловолосый и голубоглазый красавец, этот диктатор Рима и государственный террорист «искал в жизни только веселья и наслаждений… Жаждать и стремиться к чему-либо, вероятно, казалось ему неразумным в мире, который управляется случайностью и в котором можно рассчитывать только на случайность. Он шел за своим временем, сочетая неверие с суеверием. Но его странное легковерие – не простецкая вера Мария, который покупал у жрецов предсказания и действовал согласно этим предсказаниям. Легковерие Суллы еще меньше похоже на мрачную веру фанатиков в предопределение. Вера Суллы – это вера в абсурд… Это – суеверие счастливого игрока, который считает, что судьба дала ему привилегию везде и всегда выигрывать».
За внешней праздничностью и радостным пафосом этот мир статуй с пустыми глазницами скрывал глубочайший ужас перед властью фатума. Быть может, грек превратил свою жизнь в непрерывную череду торжеств именно для того, чтобы бежать от этого кошмара, от язвы рока, разъедающей мир? Да, его пессимизм был вызван «ужасающей силой Негатива» (Гегель), которая некогда сотрет людей, героев и богов. Когда Сократ у Платона говорит, что человеческая жизнь является трагедией и комедией одновременно, то этим глубочайшим словом он на несколько мгновений приоткрывает перед нами глухую завесу античного бытия.
Только монотеизм освободит личность из-под власти космической необходимости и тем самым наделит ее некой высшей миссией и собственной историей. Идея фатума играла значительную роль в верованиях доисламских арабов: их поэзия постоянно возвращается к мотиву ничтожности человека перед хаотическими силами судьбы. Как и у греков, у арабов имелись фигуры героев, бросающих вызов року и вместе с тем выполняющих его предназначение. Понятие «рока» могло выражаться группой слов от глагола «манна» - мана или манун. Отсюда и женская богиня судьбы Манат, которая отвергается в Коране:
«Но видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу,
и Манат - третью, иную?
Неужели y вас - мужчины, a y Него - женщины?
Тогда это - разделение несправедливое!» (53: 19-22).
Другое слово для обозначения рока – дахр (оно означает также «время»). Отрицая воскрешение, арабы говорили:
«Мы рождаемся и умираем, и убивает нас только дахр» (45: 24).
Таким образом, Откровение говорит нам о том, что многобожие непосредственно пыталось противопоставить силы рока власти пророческого монотеизма. Напротив, монотеизм заменяет вечное вращение космической тотальности абсолютной Волей трансцендентного Субъекта, а действие рока – божественным предопределением. На языке Корана предопределение выражается такими словами, как «кадар» или «кадр», передающими также представление о мощи и могуществе. В отличие от слепого действия рока, предопределение является вертикальным вторжением Творца в пространство истории. Рок постигает, предопределение исполняется. Слово кадр используется в суре «Ночь могущества»:
«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь могущества.
Откуда тебе знать, что есть ночь могущества?
Ночь могущества лучше тысячи месяцев.
Нисходят в нее ангелы и дух с дозволения их Господа для исполнения всяких повелений.
Она - мир до утреннего времени».
Здесь лейлят уль-кадр можно переводить как «ночь могущества» и как «ночь предопределения». Лейлят уль-кадр – это священная ночь ниспослания Корана. Удерживая рядом данные аспекты, монотеистическое предопределение проявляет себя как вторжение божественной Мощи в человеческий мир.
Однако здесь присутствует еще один важный семантический момент. Слово «кадр» также связано со значением «меры», «ограничения», «справедливости». Это свидетельствует о том, что предопределение, в отличие от слепого рока, реализует некую высшую правду, определенный провиденциальный замысел о человеке и истории. Картина мира Откровения является монархической, поскольку помещает в центр Творца как абсолютного Владыку, Царя, Вождя, являющегося «Иным» по отношению ко всему тварному. Вторжение Иного означает кризис мира, раскол вечного космоса. Вспомним, что греческое слово «кризис» означает «суд» и «разделение». Бог Откровения есть небытие мира, а не его центр или эссенция. Иное, Небытие мира выступает как источник его перманентного кризиса, транслируемого через механизм предопределения на человека и историю.
О том, что античные люди жили в совершенно ином культурном мире, свидетельствует хотя бы отсутствие в их языке слов, без которых мы не могли бы выражать наше понимание вещей: личность, сознание, время, смерть.
Там, где мы упоминаем о «личности», грек говорил о «теле». Эдип жалуется на душевные страдания своего «тела». Боги – тоже прежде всего «тела».
Античные тексты никогда не имеют в виду личность как некий самосознающий центр: в них речь идет о личине, которую следует отбросить на пути к космическому абсолюту. Под «душой» (псюхе) грек понимал совокупность оболочек, более или менее грубых либо субтильных. Существует, например, вегетативная и небесно-интеллектуальная душа. Смерть представляет собой простую трансформацию таких душевно-телесных личин, так что вегетативная душа, например, перерождается в какое-нибудь животное, интеллектуальная – идет на «небо», в более тонкие слои космоса, а тело остается здесь как некая сброшенная пустая оболочка. Таким образом, речь идет не столько о смерти, сколько о совокупности метаморфоз.
Время у греков могло, с одной стороны, отождествляться с роком и почитаться как высшее божество (как в Индии всесжигающий Кала), с другой – наделяться круговым характером. «Ибо и само время, - пишет Аристотель, - кажется каким-то кругом» (Физика, IV, 10b 24-29). Это циклическое время самого космоса, сквозь которое просвечивает неподвижность вечности. В слове aion, эон, заключалось значение свернутого и развернутого времени в циклическом смысле. «Эоном» называли как ограниченный период, так и вечность. Он означал также неувядающую молодость, и его сравнивали с конем, бегущим по ристалищу. Согласно Платону, к эону неприменимы определения «был» или «будет» - он всегда только «есть». По Аристотелю, эон есть, с одной стороны, «предел, охватывающий время каждой отдельной жизни», а с другой – «предел всего неба и предел, охватывающий все время и бесконечность» (О небе, I 9, 279 а 22-30). Прокл называет его «отцом времени».
Если у таких мыслителей Нового времени, как Кант или Хайдеггер, время сконцентрировано в человеческом субъекте как его внутренняя порождающая способность, то в античной картине мира, наоборот, субъект поглощен объективным временем космоса. Поэтому «вместо того чтобы сосредоточить время в личности, Плотин хочет…рассеять личность во времени». Время у Плотина порождается небесной сферой, когда вечность, являясь бесконечно длящимся мигом, проецируется на плоскость чувственного мира, продуцируя временной поток. О том же говорит Ямвлих: космический демиург распутывает «умное» время как вечное «теперь» небесных сущностей, и из этих нитей сплетает поток эмпирической темпоральности.
Та концепция времени, которую предлагает Хайдеггер в «Sein und Zeit», где темпоральность направляется будущим и продуцируется из субъекта (Dasein), соответствует монотеистической картине мира, тогда как критикуемая им точка зрения Аристотеля («теперь-время») – картине мира манифестанционализма. У Аристотеля идет речь не об «обыденном толковании времени», а о самопонимании целого культурного мира. Чтобы вполне разобраться в аристотелевском учении о времени, следует держать перед своим внутренним взором картину античного космоса – совершенную и внутренне неизменную сферу, где имеет значение только константное «теперь».
«Теперь» есть концентрированное выражение вечности, которое, как бы ниспадая на космическую периферию – земной мир, - разделяется на бесчисленное множество отдельных «мгновений». Тогда космос оказывается «подобием больших вселенских часов, которые лишь отмеряют идущее само собой время». Этому соответствует культ случая, тюхе, представление о слепом фатуме или греческая драма момента. Шпенглер назвал это «точкообразным эллинским бытием».
Грек существовал в области сиюминутного: он не имел понятия о «большом», историческом времени, выстраиваемом из будущего. Последнее разовьется только в трансформированном монотеизмом мире. Потому жизнь в эллинском мире, как мы уже сказали, должна была казаться вполне бессмысленной. Гомер не случайно сравнивает людей с «листьями в дубравах древесных», которых «ветер по земле развевает». Распространенная греческая мудрость гласила, что самое лучшее для человека – вообще не родиться, а если родился, то как можно скорее умереть.
Отсюда и отсутствие интереса к истории. Аристотель оставил нам описания диковинных животных, но ничего не сказал о своем ученике Александре, а в политической теории проигнорировал крупнейшие изменения в отношениях власти, совершавшиеся на его глазах. Величайший гений древности наблюдает крушение целого исторического мира и рождение на его месте нового, видит во главе этих процессов своего собственного ученика, но не считает необходимым сказать об этом хотя бы несколько слов! Как это понимать? Аристотель, подобно любому традиционному человеку, был ориентирован на созерцание и воспроизводство архетипов. Он не жил в истории, как мы, и не имел представления об историческом времени. Именно по этим причинам в Индии напрочь отсутствовала историографическая традиция. Плотин прямо говорит, что в истории нет никакого смысла. Предназначение человека – не реализация какой-то сверхмиссии в потоке исторического времени, но бегство из него ради созерцательного слияния с Единым, с космосом, со «Всем». Стремиться к чему-то в таком мире или пытаться его исправить кажется Плотину абсурдным.
Главным и, по существу, единственным объектом античной мысли является, как уже было упомянуто, Космос – вечная, неизменная, периодически сгорающая и возрождающаяся «природа» созерцательной Традиции, о которой Гельдерлин скажет:
Она сама, кто старше всех времен,
Превыше всех богов восхода и заката,
Природа пробудилась под звон оружия,
И от эфира до бездн подземных,
По непреложным законам
Зачата святым хаосом,
Обновлена вдохновеньем
Всетворящая снова.
Чтобы понять образ, «схему» мышления греков, надо сразу же уяснить, что в этом мире «все едино» и «все переходит во все». Нет границ, нет преград между мирами. Нам трудно понять эту метаморфичность, поскольку наше восприятие окружающей действительности основано на четкой фиксации позиций. Условно говоря, для нас «верх» - это верх, «низ» - это низ, «Зевс» - это Зевс. Совсем иначе у греков. «Единое» легко может стать у них «бесконечным множеством», Огнем или Зевсом. «Дионис и Аид – одно и то же», говорит Гераклит. Орфическая формула: «И Зевс, и Аид, и Солнце, и Дионис – едины». Когда эллинские сюжеты сообщают нам о приключениях Диониса или Геракла, то здесь имеются в виду события, которые происходят не только «здесь», в этом мире, но и в других, более субтильных мирах. Но поскольку строгой границы между тем и другим для грека нет, то эти существа как бы перетекают из одной плоскости в другую. Потому что существует, например, как об этом скажет любой знакомый с посвятительными доктринами, Индия «земная» и Индия «небесная» (субтильная), и Дионис приходит не из первой, а из второй. Есть текучий, флюидный континуум Большого космоса, и в нем-то и разворачиваются те события, которые мы привыкли называть «мифами», поскольку им нет соответствия в обычном эмпирическом опыте, полученном с помощью эмпирических глаз и ушей. Гераклит отчеканил свое знаменитое panta rei, «все течет», имея в виду эту конститутивную особенность языческого космоса: бесконечный коловорот элементов, качеств и состояний.
Движутся в море глубоком моря, те к зарям, те - к закатам;
Поверху волны стремятся на полдень, ниже на полночь;
Разно-текущих потоков не мало в темной пучине,
И в океане пурпурном подводные катятся реки.
(Вяч. Иванов).
Подобно тому, как в античной картине мира «все становится всем», категории «философий» той эпохи также служат субститутами друг для друга.
А. Лосев метко характеризует стиль трудов Плотина как «неуловимый» или «ползучий»: все понятия у него накладываются одно на другое и плавно перетекают друг в друга. Демокрит называл свои атомы «идеями» и «богами», Платон именовал свои «идеи» «атомами». Стоические «логосы» - это также и «эйдосы» (как и аристотелевские «формы»), а неоплатоническое Единое в то же самое время выступает как Благо, Логос или «идея идей».
Все «школы» античной мысли, по существу, говорят одно и то же и легко «переводятся» на язык друг друга. Современное знание развивается по прямой линии, от «низшего» - к «высшему»; древнюю же мысль скорее можно назвать «вращающейся на месте». Возникает впечатление, что за 1200 лет ее истории ничего нового не было сказано, и Прокл занят совершенно тем же самым, что и Парменид.
Другая распространенная ошибка – принимать символы (а греки говорили прежде всего символами) за то, что они эмпирически обозначают. Еще и сегодня в любом компедиуме можно прочитать, что досократики искали «начало вещей» то в воде, то в воздухе, причем все это пересказывается как анекдот о наивности древних, не знакомых еще с чудесами современной науки.
Но не будем торопиться с вынесением оценок. Возможно, древние были не столь наивны, как это кажется нам ввиду нашей собственной наивности. Дело в том, что космическое сознание – а именно таким было сознание греков – намного превосходит те рамки восприятия реальности, которые эмпирическое знание современного «цивилизованного» человека считает нормальными и достаточными. Грек «видел» гораздо более широкий спектр явлений и феноменов за счет той способности созерцания, которую он развивал в себе с помощью вполне определенных техник.
В перспективе данной оптики «вода» – это универсальный, встречающийся также во многих других культурах символ космогонической субстанции. Ветхозаветное «Дух Божий носился над водою» является, скорее всего, заимствованием из вавилонской космогонии. Вода как женское начало творения требует оплодотворения, например, со стороны молнии (тоже, разумеется, символ). Анаксимен говорит о «воздухе» в таком же смысле. Точнее, у него речь идет не о воздухе, а о тумане, более или менее плотном, из которого сгустился мир (не только «наш», эмпирический мир, но и вся совокупность миров Большого космоса, о которых современная позитивная наука не имеет даже никакого понятия: не забудем, что греки всегда имеют в виду весь космический универсум, а не только ту узкую полоску этого океана, которую мы именуем «эмпирическим миром» и которой занята по преимуществу экспериментальная наука).
Анаксимандр дал этой первоначальной субстанции имя apeiron. Его изречение гласит: «Откуда вещи берут свое происхождение, туда же должны они сойти по необходимости; ибо должны они платить мзду и быть осуждены за свою несправедливость сообразно порядку времени». Это высказывание в свое время вызвало громоздкую попытку толкования со стороны Хайдеггера, которая не столько прояснила, сколько запутала дело. Но в действительности общий смысл сентенции как раз хорошо понятен: здесь имеется в виду космогонический процесс, в результате которого качественно оформленное сущее выделяет себя из первоначального апейрона. Затем, когда цикл подойдет к концу, оно опять погрузится туда «по необходимости». Не совсем ясна только последняя часть изречения, но, во всяком случае, очевидно, что Анаксимандр не говорит здесь что-то необыкновенное и чрезвычайно мудрое – то, что мы не могли бы встретить у других греческих философов. Смысл подобных сентенций можно прояснить лишь в соотнесении с общеантичной картиной мира, чего Хайдеггер не делает, предпочитая вообще иметь дело с досократиками и обрывочными высказываниями, поскольку, как говорит Гегель как раз по этому поводу, «от всей древне-ионийской философии у нас осталось с полдюжины коротеньких отрывков, и изучить их, разумеется, легко. Однако ученые чаще всего показывают свою ученость на древних, ибо, где мы меньше всего знаем, там мы можем быть более всего учеными».
Для прояснения античных представлений о космогоническом процессе приведем один гимн из индийской «Ригведы»:
До появленья Ничто, даже раньше, чем Нечто явилось,
В чем все скрывалось? Иль где почивало? В воде ли?
Смерть и бессмертье друг друга, как ночи и дни, не сменяли.
Только Единый, который себе был источником жизни,
Ровно дышал, и ничто вне его не лежало.
Мрак схоронился как в море во мрак изначальный;
Как пустота, поглощенная хаосом, там возрастал он
Внутренней силой усердной. Родилось сначала
Семя первичное мысли, которая с чем-то
Что существует, не ведает связи, - желанье,
Что мудрецы вечно ищут и вечно находят.
В пропасти темной вдруг луч пламенеющий вспыхнул.
Все это сверху иль снизу творилось? Кто знает?
Мощные силы, творящие, найдены были. И силы
Эти трудились. Внизу простиралась материи масса,
В вечном движеньи, энергия – сверху. Кто скажет,
Весь этот мир безграничный откуда поднялся?
Боги в то время еще не явились на свете, так кто же
Правду откроет? Откуда мир вышел, и был ли
Создан рукою богов или нет?..
Здесь «Единое» тождественно анаксимандровскому апейрону, который, если верить Аристотелю, также является божеством и «всем правит». Сегодняшняя Индия вообще является наиболее близким аналогом погрузившейся в Лету греко-римской античности. В структуре индуистского космоса мы встречаем ту же метаморфичность. Множество аватар и теофаний превращаются друг в друга. «Когда закон повергается и восстает беззаконие, - говорит Кришна (аватара Вишну) Арджуне, - о, потомок Бхараты, тогда я привожу себя к рождению в теле» (ср. это с христианским мифом о «боговоплощении»).
Наибольшим значением обладают десять аватар Вишну, среди которых Кришна, Будда, Рама и Калки. Верховная триада индуистского пантеона – Брахма, Вишну и Шива – состоит из божеств, перетекающих один в другого и манифестирующих три аспекта Верховного Существа. Брахма выполняет роль создателя Космоса, Вишну – его хранителя, а Шива – разрушителя. Индуистские боги проявляют те же пороки, что и гомеровские. Так, Брахма потерял одну из своих пяти голов в результате наказания Шивой за то, что в пьяном виде совершил инцест с собственной дочерью. По другой версии, голова была удалена ногтем Шивы после того, как ей пришло на ум толковать о превосходстве Брахмы. Индусы имеют склонность производить своих выдающихся людей в аватары: как и у греков, граница между божественным и человеческим здесь весьма размыта («богочеловечество» как фундаментальный архетип языческой картины мира).
Исходя из всего сказанного мы могли бы отыскать толкование многих казавшихся «темными» изречений и образов Гераклита. Теперь для нас будет самоочевидным настоящий смысл таких фрагментов, как: «Из всего возникает единое, и из единого – все»; «Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерами возгорающийся, мерами угасающий».
«Огонь» - один из символов для imago mundi, наравне с Логосом. Логос и Огонь – тема не только Гераклита, но и всех досократиков. «Угасание» и «возгорание» огня обозначает смену космических циклов. Поскольку космическое начало заключено в самом человеке («макрокосм» в «микрокосме»), то также и душе «присущ Логос, сам себя умножающий» (B 115) и «по какой бы ты дороге ни шел, не найдешь границ души: так глубока ее основа» (В 45). Человек становится разумным через участие во всеобщем божественном разуме (А 16). Внимающие Логосу (т. е. созерцатели) достигают огнесоразмерного просветления и самообожествления.
Если верить Диогену Лаэрцию, Гераклит сам практиковал созерцательный аскетизм: «Возненавидев людей и уединившись, он жил в горах, питаясь растениями и травами» (А 1). Сюда относится его признание: «Я вопрошал себя» (В 101). «Бытие любит скрываться»: здесь, вероятно, имеется в виду труднодостижимость Первопринципа для созерцающего. Многие образы Гераклита относятся к универсальной символике манифестанционалистской традиции. Например, символ лиры с натянутыми струнами является, безусловно, очень древним и чрезвычайно распространенным. В различных ответвлениях Великого язычества космос символизируется струнами или тканью. Представим себе нити (стоики будут называть их «сперматическими логосами»), которые через соединение с материей порождают различные формы манифестированного бытия*.
Другой излюбленный символ Гераклита – лук и стрела. Стрела здесь символизирует ось миров (мировое древо, космический фаллос), а тетива обозначает то же, что и натянутые струны в предыдущем случае. Следующий образ – молния – олицетворяет действие Первопринципа, его манифестацию. Логос, говорит Гераклит, есть молния и правит по способу молнии. Молния выступает символом брака неба и земли, верха и низа, идеи и материи. Она может также отождествляться с мужским началом, фаллосом, который, ударяя по инертной «воде» («мировому океану»), оплодотворяет ее и тем самым дает начало манифестированному бытию.
Другой известный гераклитовский фрагмент использует универсальный образ игры: «Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки: царство над миром принадлежит ребенку» (В 52). Мировая игра как действие случая; пересечение потоков и отражение бликов бушует на поверхности космической жизни. В Индии другим наименованием «пелены майи» является лила, т. е. мировая игра. Плотин в целом ряде текстов сравнивает жизнь человека и мира с игрой актеров. «Это все равно что на сцене, - пишет он, - когда убитый актер, переменив одеяние, появляется вновь, приняв другой облик… Смерть есть перемена тела, как на сцене – одеяния… Разнообразная жизнь во вселенной все создает и в процессе жизни разнообразит и не перестает создавать миловидные живые игрушки». И тем не менее игра – удел поверхности космического бытии, тогда как в его сердцевине господствует совершенный покой Единого. Как это выразил склонный к пантеизму Гете,
Wenn im Unendlichen dasselbe
Sich wiederholend ewig fliesst,
Das tausendfa"ltige Gewo"lbe
Sich kra"ftig ineinander schliesst;
Stro"mt Lebenslust aus allen Dingen,
Dem kleinsten wie dem gro"ssten Stern,
Und alles Dra"ngen, alles Ringen
Ist ewige Ruh in Gott dem Herrn.
Когда в Бескрайнем, повторяясь,
Течет поток извечных вод
И тысячи опор, смыкаясь,
Дают единый мощный свод,
Тогда, струясь из каждой вещи,
Жизнь полнит светлый кубок свой,
И всё, что рвется, всё, что хлещет,
Есть вечный в Господе покой.
(Пер. К. А. Свасьяна).
Источник: im-werden.livejournal.com